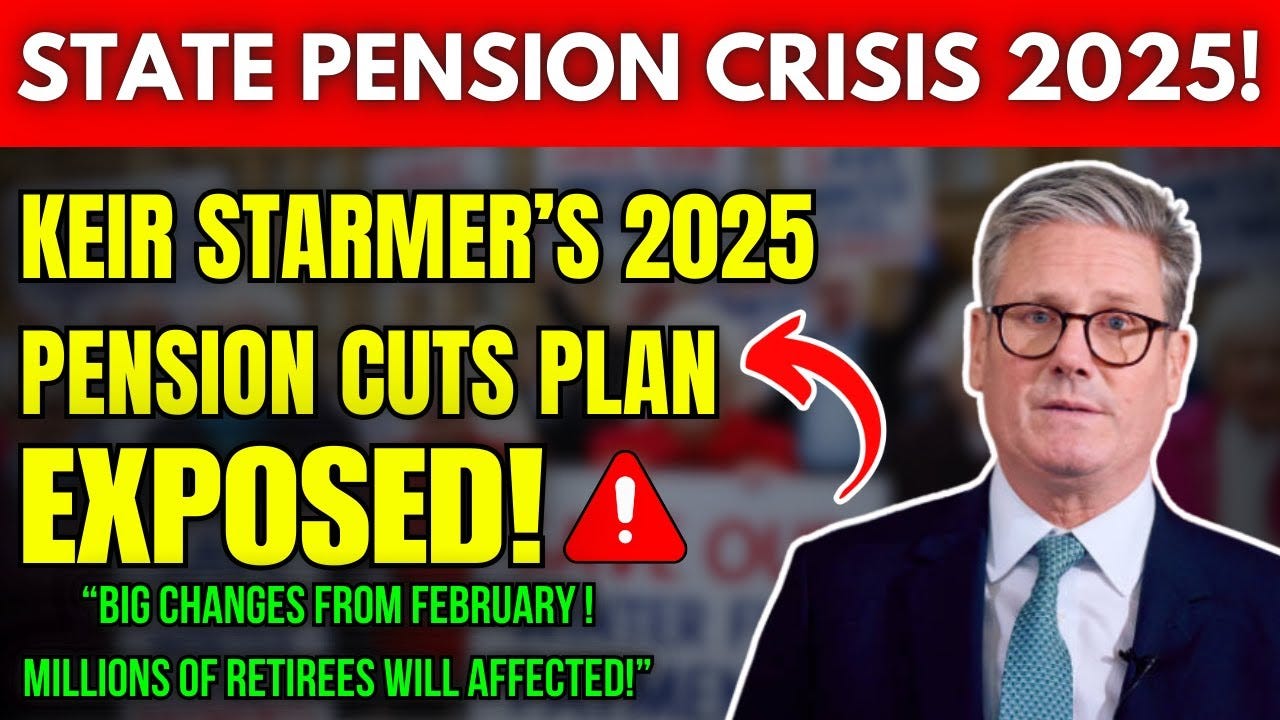Сегодня на повестке – как социалистические и левые идеи раздули огромную пирамиду социальной политики и какие забавные (и не очень) последствия из этого вышли. Приготовьтесь: будет и смешно, и грустно, и познавательно!
Пенсионная система: пенсия вместо детей?
Когда-то давно люди заводили детей не только из любви, но и в качестве «пенсионного фонда»: в старости забота детей заменяла отсутствие пенсий. Однако государство пришло с идеей: «Зачем вам зависеть от детей? Давайте мы сами выплатим вам пенсию из взносов нынешних работников!». Звучит здорово, правда? Но вот незадача: такая распределительная пенсионная система (Pay-As-You-Go) оказалась похожа на пирамиду или «понци-схему», которая требует все больше молодых вкладчиков на вершине, чтобы платить тем, кто внизу (Pension Challenges in an Aging World - Finance & Development, September 2006). А что если новых вкладчиков становится меньше? Пирамида пошатнётся!
Именно это и произошло. Рождаемость резко упала. Зачем иметь пятерых детей для поддержки в старости, если есть государственная пенсия? В результате современные семьи заводят меньше детей, зачастую меньше уровня воспроизводства (≈2,1 ребёнка). Например, в Италии коэффициент рождаемости около 1,4 ребёнка на женщину – почти вдвое ниже необходимого для поддержания населения. По словам исследователей, расширение щедрых пенсий снижает желание иметь детей: оценки показывают, что семьи заводят на 0,7–1,2 ребёнка меньше, когда рассчитывают на пенсию от государства (fertility_socsec_draft06.dvi). Ирония судьбы: пенсионная система сама подрубила демографическую опору, ведь меньше молодых – меньше тех, кто будет платить взносы за будущих стариков.
Учёные шутят, что государственная пенсия превратилась в контрацептив. 😊 Один свежий экономический анализ показал, что после расширения пенсий в одной стране женщины в итоге имели в среднем на 1,3 ребёнка меньше за 20 лет (Pensions and Fertility: Microeconomic Evidence - American Economic Association). То есть каждая бабушка, получив гарантию пенсии, условно отменила появление одного внука – вот такие экономические побочные эффекты! В итоге пирамида пенсионной системы раздулась, верхушка (число пенсионеров) растёт, а основание (число работающих детей) сужается. Даже МВФ отметил, что падение рождаемости – ключевой вызов пенсионным системам, построенным как пирамида: без притока молодых их математика просто не сходится. Добавьте сюда рост продолжительности жизни – и получаем бомбу замедленного действия для государственных финансов.
«Думали решить проблему старости – а создали новую проблему: демографическую!». Теперь многим странам приходится поднимать пенсионный возраст, увеличивать налоги или сокращать пенсионные выплаты, чтобы спасти систему. Благие социальные намерения (пенсия для всех) без учёта стимулов привели к тому, что люди стали меньше рожать, полагаясь на государство. Пирамида работает, пока есть приток молодых; но когда каждое новое поколение меньше предыдущего, пирамида начинает качаться. Нужен либо приток мигрантов, либо бэби-бум, либо реформа – иначе этой пенсионной конструкции грозит крах (во всяком случае, платить щедрые пенсии будет все сложнее).
Welfare и пособия по безработице: из сетки безопасности в «социальный гамак»
Перенесёмся в современность: государство решило не только о стариках заботиться, но и всех нуждающихся поддержать. Появились пособия малоимущим, безработным, многодетным – словом, государство всеобщего благосостояния. Идея отличная: дать людям страховочную сетку под канатом жизни. Но некоторые заметили, что сетка-то превратилась в гамак – уж больно удобно в ней лежать и не слезать.
Возьмём яркий пример. В Дании одна женщина по имени Карина умудрилась жить на пособия с 16 лет и к 36 годам никогда не работала – ведь щедрое государство платило ей порядка €2300 в месяц, позволяя комфортно жить без труда (How European Welfare Discourages Work | Cato Institute)! Другой датчанин, Роберт Нильсен, тоже более десятка лет сидел на пособиях и даже не пытался искать работу. Он откровенно заявил: *«К счастью, я родился и живу в Дании, где правительство готово меня содержать». Звучит как гротеск, но подобные случаи – не анекдот, а реальность в ряде богатых стран.
Щедрые пособия меняют стимулы. Экономист пожимает плечами: люди реагируют на стимулы, это не лень, а расчёт. Если государство платит почти как за работу, то зачем напрягаться? Исследование показало, что во многих странах Европы совокупные выплаты безработным и малоимущим (учитывая пособия, жильё, выплаты на детей, налоговые льготы) могут достигать €20–30 тысяч в год – сопоставимо или даже больше, чем зарплата на непрестижной работе . В 6 странах ЕС пособия для условной матери-одиночки с двумя детьми превышали €20k в год, а в лидере рейтинга, Дании, могли достигать €31,7k в год! Неудивительно, что в 9 странах пособия сравнимы с доходом от работы на минималк. Получается, работать за минимальную зарплату менее выгодно, чем сидеть на пособиях – ведь, выйдя на работу, человек теряет выплаты, начинает платить налоги, тратится на проезд, питание и т.д . Экономисты называют это «ловушкой бедности» или «предельной налоговой ставкой на труд». В некоторых странах человек, слезающий с пособия и выходящий на работу, теряет почти столько же, сколько зарабатывает – фактически сталкивается с ~**100% налогом на каждый заработанный евро! Например, в Австрии или той же Дании выход на работу почти не увеличивает чистый доход, ведь льготы пропадают. Зачем тогда работать? Рационально многие выбирают остаться в «социальном гамаке».
Последствия видны в статистике. Доля неработающих среди трудоспособных выросла. В США сейчас около 10,5% мужчин в расцвете сил (25–54 года) вообще не работают и не ищут работу – примерно 6,8 миллиона человек предпочли уйти с рынка труда. Для сравнения: в 1950-х такие показатели были три раза ниже. Конечно, причин много (от образования до наркотиков), но независимые эксперты отмечают: одна из причин – доступность пособий и государственных программ, позволяющих сводить концы с концами без трудоустройства. В Европе тоже есть целые районы и семьи, где поколениями живут на социальные выплаты. До реформ 1990-х в США многие одинокие матери годами сидели на пособии AFDC, но когда ввели ограничение и требование работать, их участие в рабочей силе подскочило с ~69% до 78% за десятилетие (Welfare and the Economy). То есть, убери "бесплатный гамак" – и люди вынужденно идут работать.
«Если платить человеку за то, что он без работы, не удивляйтесь, что у вас много безработных». Социальное государство, стремясь избавить граждан от лишений, нечаянно поощрило социальное иждивенчество. Вместо временной поддержки для плавного перехода к работе некоторые делают пособия постоянным источником жизни. И тут есть опасность: уменьшается доля работающих (которые создают ВВП и наполняют бюджет), растёт нагрузка на тех, кто платит налоги. В долгосроке это подрывает экономический рост и устойчивость системы соцподдержки – пирамиду опять трясёт, на этот раз социальную пирамиду, где всё больше получателей и относительно меньше работников-плательщиков.
Государственные гарантии на рынке труда: минимальная зарплата, максимальные проблемы?
Ну хорошо, скажете вы, «пособия пособиями, но мы-то хотели как лучше: поднять минимальную зарплату, защитить трудящихся от произвола!». Разве это плохо? Никто не спорит, намерения благие: повысить доходы самых бедных работников, защитить их от увольнений и плохих условий. Проблема в том, что жёсткие гарантии часто имеют побочные эффекты, особенно для молодежи и бизнеса.
Начнём с минимальной зарплаты. Представьте, что государство указом повышает минимальный оклад – работники радуются, а работодатель задумался: потянет ли он эти затраты? Если у тебя кафе и ты платил помощнику 1000 у.е., а теперь надо 1500, возможно, ты уволишь одного из двух помощников или наймёшь кого-то по-черному. Экономическая наука давно изучает этот вопрос. Большинство исследований показывают, что рост минимальной зарплаты хотя бы немного снижает занятость среди низкоквалифицированных. Например, один обзор выяснил: повышение «минималки» на 10% ведёт к снижению занятости среди подростков примерно на 1–2%, а среди молодых взрослых на ~1,5% (IZA World of Labor - The effects of minimum wages on youth employment, unemployment, and income). Небольшие потери работы кажутся приемлемой ценой за рост зарплат тех, кто сохранил работу. Но есть и другие данные: в отдельных регионах эффект сильнее – тот же +10% к минималке мог сокращать рабочие места молодежи на *до 7% . То есть часть ребят просто не получат работу, если их труд стал дороже, чем они стоят для бизнеса.
Почему так происходит? Стандартная экономическая теория гласит: если установить цену труда выше рыночной, будет *избыток желающих работать и нехватка вакансий . Работодатели при высокой планке берут только самых продуктивных и опытных, а новичкам отказывают – либо автоматизируют простые роли. В итоге молодёжь и неквалифицированные оказываются за бортом: кто-то дольше ищет работу, кто-то вообще не начинает карьеру. Это потерянный опыт и заработок, а для общества – нереализованный потенциал. Один экономист образно сказал: «минимальная зарплата – это отличная гарантия нулевого дохода для тех, кого из-за неё не наняли». Жёстко, но доля правды есть.
Теперь про трудовые регуляции. Защитить работника от увольнения, обязать фирму дать отпуск, декрет, бонусы – все это здорово для уже нанятых сотрудников, но часто отпугивает от найма новых. Например, во Франции долгое время существовало правило: как только фирма вырастает более чем до 49 сотрудников, на неё обрушивается лавина обязательств – нужно создавать рабочий совет, отчитываться государству, соблюдать строгие нормы увольнения и пр (Why so many French firms are stuck at 49 employees). И что вы думаете сделали французские предприниматели? Правильно: многие нарочно держали компании маленькими, по 49 работников, лишь бы не попасть под эти требования. Данные показали аномально много фирм, застрявших на отметке 49 сотрудников – прям горб на распределении размеров фирм! В итоге перспективные компании не расширялись как могли бы, экономика недополучала рост продуктивности. По оценкам исследователей, одна только эта особенность законодательства сокращала потенциальный ВВП Франции более чем на 3% . Вот вам и оборотная сторона благой защиты трудящихся: избыточная зарегулированность душит предпринимательство и создает «карликовые» фирмы, которые боятся расти.
Другой пример – жёсткие правила увольнений (т.н. «защита занятости»). В некоторых странах уволить нерадивого работника почти невозможно без многомесячных выплат и судебной волокиты. В результате работодатели опасаются нанимать, особенно молодежь или малоопытных: а вдруг не справится, а избавиться будет нельзя? Лучше не брать вовсе, или брать по временным контрактам. Не случайно ранее в Европе наблюдалось: где сильнее защита постоянных работников, там больше безработица среди молодёжи и распространение временных рабочих мест (The effects of minimum wages on youth employment, unemployment ...). Ведь компании обходят запреты, набирая людей на краткосрочные договора или не нанимают вовсе. Высокая молодёжная безработица (в некоторых странах Юга Европы она держалась на уровне 20–40% многие годы) частично связана с такими барьерами на пути молодых к первой работе.
«Если почву (правила) залить цементом, новые ростки (рабочие места) не пробьются». Государственные гарантии – минимальная зарплата, жёсткие трудовые нормы – подобны удобрению, которое в малых дозах полезно, а в чрезмерных – сжигает корни. В итоге страдают те же, кому хотели помочь: молодые, малообеспеченные, предприниматели. Одни не могут найти работу, другие – боятся расширять бизнес и нанимать новых сотрудников.
Вместо заключения: Благонамеренный Левиафан и уроки экономики
Социалистические и левые идеи породили мощную систему социальной политики – своего рода пирамиду, где вершиной стали все получатели благ, а основанием – те, кто создаёт ресурсы. Пенсии дали старикам уверенность, но подорвали семейные устои поддержки и снизили рождаемость, став демографической миной замедленного действия. Пособия и welfare спасли многих от нищеты, но местами развратили трудовую этику, создав прослойку хронических получателей, живущих за счёт чужого труда. А трудовые гарантии и регулирование, призванные защитить слабых, иногда тормозят саму экономику, лишая этих слабых шанса стать сильными (через работу и рост доходов).
Экономика учит: стимулы важны. Люди реагируют на поощрения и санкции, даже если у государства были самые добрые намерения. Когда государство берет на себя функции семьи, семьи меняют своё поведение. Когда платит за безработицу – часть людей выбирает не работать. Когда диктует бизнесу жесткие правила – бизнес адаптируется, зачастую не так, как задумали политики. В результате хорошие намерения без учета экономической логики привели к парадоксальным последствиям: рожают меньше, работают меньше, нанимают меньше.
Конечно, невозможно отменять социальную политику, но реформировать её придется весьма быстро, и строить не пирамиду-понци, а устойчивую систему, где стимулы выстроены правильно. Пенсионная система, должна поощрять вклад молодого поколения (например, через накопления или участие семей), welfare – помогать встать на ноги, а не лежать на диване, а трудовое право – балансировать защиту с гибкостью, чтобы сад экономического роста цвёл пышно.
И главный урок: в экономике нет бесплатного пирога. Если слишком много людей едят пирог и слишком мало пекут его – пирог рано или поздно закончится. Социальная политика должна помогать печь пироги, а не только раздавать их.